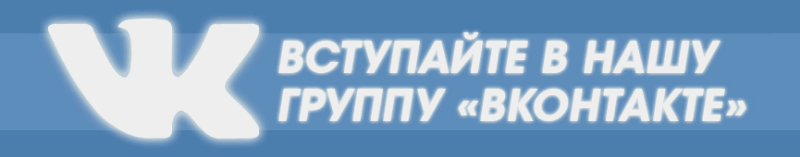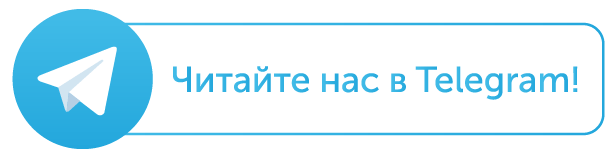Любимая Припять — колыбель моего детства, моя радость и боль. Несмотря на все беды, выпавшие на долю этого края, я беззаветно люблю свою малую родину и верю в ее возрождение. Это деревни Ломачи, Тульговичи, Новый Покровск, Кожушки, Хвощевка, Оревичи
и другие Хойникского района, которых больше нет на карте.
Такие страшные ромашки
Наша деревня Ломачи стояла на самом высоком берегу реки. Однажды мы проснулись от шума, выбежали на улицу. Горели дома, взрослые бегали вокруг, дети плакали. С вышки на холме кричал солдат, чтобы все бежали в лес. Немцы шли на катерах по реке: били из орудий, секли пулеметами. В сараях ревела скотина, уши закладывало от грохота…
Когда повзрослела, узнала, что тогда с врагами схлестнулась армия Ковпака. Деревню не сдали. После боя сказали: уходите, немцы идут. Мы уплыли на челнах за реку, вглубь лугов, построили шалаши. Наши стоянки находили самолеты, стреляли с воздуха. Помню, как совсем маленькая бежала с другими детьми, уползала в кусты, подальше от смерти.
Вернулись в разграбленную, сожженную деревню. Возле уцелевших хат что-то делали солдаты. Нам стало интересно. Подбежали, увидели красивые “ромашки”. Хотели потрогать, но солдаты стали кричать, чтобы детей убрали. Это были мины.
Все ужасы войны детская память запечатлела до мельчайших подробностей.
А потом началось мирное время. Бригадир отвозил детей на поля собирать колоски. Вечером нас отпускали, и мы бежали к реке, плюхаясь в нее, как в парное молоко. Вокруг, поблескивая бочками, резвились стайки
мальков, таких же детей, как мы.
Такой ты осталась в памяти, Припять. Ласково плещущей водой у песчаной кромки, баюкающей нас… От тебя не хотелось уходить, родители не могли докричаться.
Мы учились плавать и не боялись тебя, твоей глубины, быстрого течения. Даже когда темнела, покрывалась седыми волнами. Мы знали: так ты защищаешься от непогоды. А у крутых берегов твоих селились ласточки — “печкуры”. Они рыли норки-гнезда, и, проплывая снизу на челне, можно было видеть, что весь берег в дырочках. Сейчас, к сожалению, этих норок нет.
Народ в Ломачах жил дружный, работящий. Сколько было радости, когда кто-то возвращался с войны. Встречали всей деревней, устраивали праздник. Детей угощали сахаром — прозрачным, как стекло, его кололи на куски.
Когда праздновали День Октябрьской революции, столы накрывали в школе. Колхоз выделял овец на мясо, хлеб и пироги пекли из своего помола. Запомнила вкус киселя и коржей, вкуснее которых никогда не пробовала.
По мере взросления рос круг обязанностей, дома и в поле. Мать была передовой дояркой, отец, хоть и вернулся раненым, работал косцом — мужчин не хватало. Часто брал меня на покос, учил укладывать стога, чтобы не затекало.
Как в старой сказке
А какие были разливы на Припяти! Половина деревни плавала в воде, от дома к дому ездили на челнах. Вода уходила, и в ручейках оставалось много малой рыбы, щуки, плотвы. Мы ловили ее “кошами”.
С правой стороны деревни было озеро, там жил председатель колхоза, мой дядя Алесь. У озера луг, а на нем царство белых цветов. Их называли чировки. Когда они отцветали, в их маковках созревали вкусные зерна. Озеро почему-то называлось Гусятник, хотя на нем водились дикие утки. Никто их тогда не пугал, не обижал. Мы любили наблюдать за ними, затаившись в кустах.
Свадьбы у нас гуляли по-особому. Жених приезжал с родней и дружками на челнах. Их долго не пускали во двор. Женщины со стороны невесты пели частушки о том, что жених якобы не тот, ждали другого. Дружки пытались пробиться через стену женщин. И все это под гармошку, бубенцы.
Потом выводили покрытую покрывалом невесту, и жених должен был угадать: она ли это? Разрешалось только подержать за руку. Когда выводили настоящую суженую, дружки платили выкуп ее подружкам. Это была прелюдия, а забирали невесту в воскресенье. Перед ней несли “ельцы” — украшенное цветами деревце. Девушки пытались оборвать цветы, если желали выйти замуж. Между ними и парнями начиналось “сражение” за “ельцы”, переходившее в финальный хоровод.
Трудились много, но до поздней ночи деревня не затихала. Слышны были песни, смех, играла гармошка. Когда девчата пели у реки при тихой погоде, песни разносились на всю округу. Самые любимые: “Рэчанька, рэчанька, чаму ж ты не поўная”, “Пасадзiла агурочкi блiзка над вадою, сама буду палiвацi дробнаю слязою”. У мамы Насти голос был сильным, ее часто просили спеть. Как-то она рассказывала, что когда была маленькой, в их деревне поселились казаки — они строили корабль из сосен. Пели свои песни, угощали детей кашей, давали подержать шашки. Может, потому в нашей деревне, как нигде в округе, знают столько украинских песен.
На покосах с отцом я заслушивалась соловьиными трелями. Птицы выводили рулады в кустах, близко-близко от нас. Однажды подкралась, раздвинула ветви и увидела певца — малую, серую пташку. Соловей издавал свои дивные, переливчатые звуки, прикрыв глаза от удовольствия.
Родня у моего отца была большая. Дед Алексей слыл крепким хозяином. Сыновей поженил, дочерей выдал замуж, все жили вместе и трудились от зари до зари. Были свиньи, коровы, волы, кони. Даже красивая бричка для выезда в гости.
Когда мать замуж выходила, ей и 17 не было. Тесть ездил в Юровичи, тогда еще уездный город, кому-то платил, чтобы расписали.
Поговаривали, дед не хотел идти в колхоз, и его сильно избили. Пришлось ездить в Наровлю к доктору от бога Градицкому, откачивать жидкость из легких. Вскоре после этого дед умер, и хозяйство все равно забрали.
У реки был колхозный огород, там стоял “курень” — шалаш сторожа. Мы украдкой пробирались туда, чтобы стащить пару огурцов. Они почему-то появлялись раньше, чем у нас в огородах.
Нас с детства учили, где что растет. На лугах собирали корни валерианы, дикий чеснок, на полях — головню. Сдавали приемщику щавель — тот отвозил его на сушильный завод. На старом русле реки росло много “шульги” — ракитника. Мы резали красные прутики, вязали в снопы и тоже сдавали приемщику. Их отправляли на мебельную фабрику в Наровлю.
Если подняться против течения, выше озера Гусятник, там было длинное старое русло с мрачной водой, заросшими берегами. Туда меня еще маленькой возила мама. Почему-то чувствовала в тех местах безотчетный страх, облегчение наступало только возле Припяти. Мать показывала колодцы, срубы — все, что осталось от бывшей деревни. Только там можно было нарвать водяных орехов — зеленых, с иголками, большим ядром внутри. Еще водились “черепашки” или мидии, мы нагружали ими целую лодку. Потом варили и кормили свиней. Кто-то сдавал на фабрику, из них делали пуговицы.
Со свиньями вышла интересная история, совсем как в старой сказке. Детьми мы пасли их, выгоняя на сжатую рожь. Однажды погнали в урочище Засеки, где у леса жили переселенцы с Украины после голодомора. Кто-то предложил разыграть взрослых. Стали кричать: волки, волки! Люди, конечно, прибежали. Ох, и отругали нас тогда. А потом… Два самых настоящих волка забежали прямо в гущу стада. Мы кричали, плакали, да что толку? Многие свиньи были изранены, одного поросенка волки уволокли.
Повторится ли?
У Ломачей Припять с мощным течением, глубоким фарватером. Теплоходы когда-то ходили каждый день. Дно чистили, углубляли земснарядом. Берега всегда были ухожены — чистый, мягкий песок манил отдыхающих. К нам приезжали купаться и загорать из Чернобыля, Киева, даже из Москвы. Суда Мозырского пароходства возили грузы: на Украину — лес, в Беларусь — руду, уголь. Теплоходы носили имена Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, других молодогвардейцев. Плавали красивые пассажирские теплоходы с двумя палубами. Один из таких, “Максим Горький”, бывало, причаливал у Ломачей, и в деревню приходили парни с гармошками, начинались танцы.
К нашим девчатам — статным красавицам с двумя косами, очень скромным — хлопцы на челнах приплывали даже из Конотопа.
По-своему красива и зимняя Припять: застывшие в снежном плену берега, деревья в серебре. Задолго до праздника деревня готовилась к Рождеству: белили хаты, до желтизны мыли полы. Все белье, обычно льняное, укладывали в “жлукто” — бочку из долбленой осины, пересыпали древесной золой, заливали кипятком. Затем везли на реку и били о лед, полоская в лунке. Сушили обязательно на улице. Свежесть того белья трудно выразить словами.
В каждом дворе забивали кабанчика, делали колбасы из мяса и печени, кровянку. Желудок мама долго чистила, набивала мясом без сала, клала перец и соль, зашивала и подвешивала на чердаке. Летом провяленное мясо отец брал на сенокос.
Мы, дети, конечно, ходили колядовать. Начинали обычно так: “Ой, на реке, реке, святый вечер, молодая панночка, святый вечер, перевоз держала…” Одаривали нас всем, что попадалось под руку.
Утром после колядок были засевки. Мать укладывала сено перед порогом и на столе с иконами. На сено стелили красивый рушник и ставили душистый хлеб из печи. На православный праздник в январе со всей округи съезжались гости, и деревня преображалась — народ пел и плясал три дня без остановки.
Весной же река сбрасывала ледяные оковы, разливалась на многие километры. Все кусты были до макушек в воде. Вечером, когда пароходы шли при огнях, казалось, что они парят в воздухе. Это зрелище трудно описать. А при солнечной, тихой погоде, когда вербы уже выпустили листочки, река плавно катила воды в сторону Киева, мимо изумрудных берегов. И посреди всей этой красоты плыл белый теплоход.
Повторится ли это когда-нибудь?
Весной в деревне готовились к другому большому празднику — Пасхе. В печи опять все жарилось, варилось. Красили яйца, пекли “паски”. К столу обязательно должны были подать молодого поросенка, и я плакала, не давала его резать. Меня уводили к соседям, но назавтра я его все равно не ела, жалела… Вечером всех детей вели в церковь, она была в соседних Тульговичах — большая, рубленная из дерева. Перед освящением пищи все зажигали клубки нитей, которые не горели, а тлели синим пламенем. Затем мы топали ночью семь километров домой, а наутро детей ждала главная забава — игра в битки.
После схода воды у реки сеяли и сажали огурцы, морковь, свеклу, много конопли. Она шла на полотно, веревки, масло. Конопляная “макуха” была подспорьем для еды, ее добавляли в картофель. И, представьте, не было никаких наркоманов.
На одном из крутых берегов у нас рос мощный дуб. Его звали Елин, он поздно одевался в листву и поздно ее сбрасывал. По выходным хлопцы вешали на него “арэлi” — качели. Желающий садился на дощечку, и его раскачивали так, что захватывало дух. Казалось, что летишь высоко-высоко, над рекой, огородами… Такое, правда, не забывается.
Пройдет век или больше…
В школу мы тоже ходили в Тульговичи, за семь километров. Она была в бывшем панском доме. Преподавали тогда не только привычные предметы, но также астрономию, логику, черчение. Циркули заправлялись чернилами. Помню учителя по черчению Ивана Тарасовича Судаленко. Еще он вел геометрию и физкультуру. Очень строгий был, но я ему благодарна за науку.
Зимой ходить в школу было трудновато. Ребята шли след в след, и первый обычно нес зажженную резину на палке. Не столько путь освещали, сколько надеялись отпугнуть волков.
Вспоминаю первые экзамены в школе. Старшеклассницей бегала на луг рвать ландыши и, возвращаясь, пела вместе с птицами, поддавшись светлому, радостному порыву. В основном это были песни из любимых кинофильмов: “Кубанские казаки”, “Возраст любви”. Это была пора взросления, то щемящее чувство, когда еще не понимаешь, что зарождается в твоей душе.
После окончания школы была в растерянности, не знала, куда поступать. Выбор в итоге пал на Калинковичский зоотехникум. Там подружилась с замечательными девчатами: Верой Шут, Лидой и Галиной Бердник, Валей Шурьяковой, Улей Арабченко, Лидой Образцовой. До сих пор с теплом их вспоминаю.
Родная Припять решила мою судьбу — будущего мужа я встретила на палубе теплохода, мы вместе плыли в Мозырь. Как оказалось, он жил неподалеку, в Хвощевке, учился в Оревичской школе. Тоже из большой, работящей семьи. И места там такие же благодатные — озерные, рыбные, грибные, ягодные.
Не перестаю удивляться, насколько райской была наша земля — она давала все для жизни. В такой дивной красоте жить бы и не тужить, но…
Пришла страшная беда. Ее принес с юга черный чернобыльский ветер. После взрыва на атомной станции наш край покинула радость, на ее смену пришли печаль и безысходность. Там, где сама природа делала людей добрее, светлее, где жили и растили детей полешуки, умерла земля, а Припять осиротела. Река будто скорчилась, обмелела и потемнела от горя. По ней не ходят корабли, перекликаясь друг с другом, не плещутся в ее водах дети, не слыхать их звонкого смеха. И стоит там, среди заросших берегов, мертвая тишина.
Семейное счастье с Анатолием мы построили уже на Буда-Кошелевской земле. Четверть века супруг возглавлял экспериментальную базу “Уваровичи”, она была передовым хозяйством. Но не было и дня без воспоминаний о Припяти.
Шесть лет назад я, теперь уже покойный муж, его брат с женой и наш сын Сергей посетили родину, побывали в Ломачах, Хвощевке. Сын тогда приехал из Севастополя, прихватил с собой камеру. Он, прошедший Афган, снимал и плакал. Снимал хаты в кустах, покрытые мхом плодовые деревья, эту жуткую, звенящую тишину. Ведь там молчат даже птицы. Испытавший многое на войне, Сергей признался, что ни разу не плакал в Афганистане. А здесь, на родной земле, не выдержал.
Надежда умирает последней. Эта мысль подбадривает меня долгие годы. Пройдет век или больше, так я думаю, и радость вернется в этот край. Земля наша, омытая Припятью, вновь станет веселой, звонкой, певучей, какой навсегда осталась в моем сердце.
Воспоминания Полины АНТОНЕНКО, урожденной ЕРЕМЕНКО
Фото Олега БЕЛОУСОВА и из семейного архива
Источник: http://gp.by
© Правда Гомель